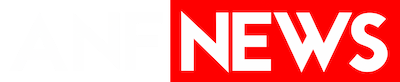Международные экологические структуры, действующие под брендом «зелёных» институтов, остаются безмолвными перед лицом продолжающегося экологического разрушения в Курдистане. Несмотря на определённую чувствительность общественности к вопросам защиты домашних животных, тема вымирания диких видов в регионе не получает должного внимания. Дополнительные вопросы вызывает деятельность демократически избранных местных властей в сфере дорожного строительства и благоустройства территорий.
На фоне выхода книги «Третья природа» и подготовки к публикации нового издания «Экологическое разрушение и кровоточащие долины» бывший сопредседатель Месопотамского экологического движения, эколог-активист Гюнер Янлич рассказал ANF о ключевых идеях своей работы, роли международных экологических институтов и причинах молчания глобального сообщества.
— Господин Янлич, расскажите о книге «Третья природа». Что побудило вас её написать?
Экология — одна из самых уязвимых сфер с точки зрения ресурсного обеспечения. Несмотря на годы участия в экологической борьбе, я пришёл к пониманию: этой области необходима серьёзная теоретическая база. Примерно шесть лет назад, с выходом газеты Yeni Yaşam, я начал публиковать в ней регулярные колонки. В общей сложности было опубликовано около 75 колонок по вопросам экологии. Кроме того, порядка 25–30 моих текстов вышло в издании Gazete Karınca. Писал я и в других газетах.
На основе этого опыта родилась идея создания книги, которая объясняла бы экологию простым, доступным языком. Так появилась «Третья природа» — на основе статей, дискуссий, публичных панелей и журналистской практики.
Экология часто воспринимается как область либо слишком академическая, либо трудная для понимания. Я постарался изложить её так, как понимаю сам — просто, ясно, избегая элитарного жаргона. В частности, я стремился объяснить, что такое экология, чем она не является, и какие факты сегодня особенно важны. Моя цель — сделать вклад в формирование экологического сознания.
— Одна из центральных тем вашей книги — так называемые «зелёные» институты. Что вы можете сказать о них?
До начала своей активной деятельности в экологической сфере я тоже был «зелёным» в классическом смысле — человеком, который заботится о природе. В Амеде (Диярбакыре) мы с друзьями создали ассоциацию по восстановлению лесов. Мы считали, что достаточно сажать деревья, убирать мусор, снижать потребление — и экологические проблемы будут решены.
Однако со временем я понял: корень проблемы — системный. Она уходит в идеологическое противостояние, возникшее ещё в 1950-х годах между социализмом и капитализмом. Современные «зелёные» институты — это, по сути, продолжение системы, выстроенной в послевоенное время в рамках так называемого плана Маршалла. Эта система создала глобальные структуры, работающие под эгидой ООН — такие как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, УВКБ ООН и другие.
Сегодня эти организации занимают все сферы, где раньше могли бы действовать независимые инициативы. Нам предлагают выбор: либо присоединяйтесь к уже существующей системе, либо не вмешивайтесь. Многие искренне поддерживают эти структуры — финансово, морально или как волонтёры. Однако в реальности они больше озабочены поддержанием устойчивости действующего порядка, а не созданием экологически ориентированного общества.
— Можете привести конкретные примеры?
Во время конфликта в Суре (Амед) мы неоднократно обращались к ЮНЕСКО с просьбой защитить исторический центр города, находящийся под её опекой. Ответа не последовало. То же самое происходило во время пожаров в лесах Дерсима, при вырубке деревьев в Ширнаке и разрушении экосистемы в Хевселе. Мы напоминали ЮНЕСКО: если вы заявляете о защите этих территорий — действуйте. Но в ответ — тишина.
Пример плотины Илису и древнего города Хасанкейф — яркий показатель. Объекты соответствуют большинству критериев ЮНЕСКО, но организация не взяла на себя обязательства по их защите. И только когда район Амед Суричи стал зоной туристической рентабельности, ЮНЕСКО внезапно включилась в процесс. Это говорит о том, что их приоритет — не охрана наследия, а интересы капитала.
Мы критикуем не только ЮНЕСКО, но и другие структуры — ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, ВОЗ. Все они претендуют на глобальные миссии, однако в действительности становятся частью системы, где экология служит экономическим интересам.
— Почему капиталистическая система романтизирует экологическую повестку?
Экологическая работа подаётся как нечто благородное: таяние ледников, спасение белых медведей. Но главная цель — устойчивость модели эксплуатации. Белые медведи важны лишь постольку, поскольку их исчезновение может повлиять на другие популяции и, соответственно, на доходы.
Между тем ежедневно исчезают десятки других видов — и об этом никто не говорит. Нас призывают сортировать отходы, снижать потребление, измерять углеродный след. Всё это отвлекающие манёвры, которые создают иллюзию участия и контроля.
Система использует нашу добрую волю. Она манипулирует нашей совестью, вовлекая в псевдоэкологическую активность. Сегодняшнее самое влиятельное экологическое движение, по сути, курируется и финансируется капиталом. Оно превращает природу, женщин, детей и саму экологию в товар.
Именно поэтому мы дистанцируемся от мейнстримного «зелёного» дискурса. Мы выступаем за подлинную, независимую экологическую борьбу — не под диктовку капитала, а ради жизни.