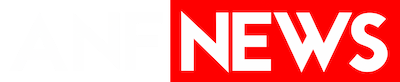После того, как 27 февраля Абдулла Оджалан призвал к миру и демократии в обществе, Рабочая партия Курдистана (РПК) провела свой 12-й съезд, состоявшийся 5-6 мая. По итогам этого мероприятия партия заявила, что курдский вопрос достиг этапа, когда проблему можно решить демократическим путем. В связи с этим РПК объявила, что выполнила свою историческую миссию и готова распустить свои ряды. Теперь от турецких властей ожидаются конкретные шаги в ответ на эту инициативу, и в последних заявлениях политиков и общественных деятелей звучат призывы к парламенту принять необходимую долю ответственности за успех урегулирования.
Так какие же условия привели к февральскому призыву и определили итоги съезда РПК? Какие политические рамки выдвигает курдский лидер, желая решения проблем в сложившихся обстоятельствах? Политолог Хасан Кылычрассказал о кризисе современного капитализма и крахе старого порядка, подчеркнув, какие рамки обозначил Оджалан, в беседе с ANF.
- В своих работах вы часто утверждаете, что «либеральный порядок рушится», и рассматриваете глобальную реструктуризацию региона и мира с этой точки зрения. Итак, как вы могли бы интерпретировать февральский призыв к миру и демократии, особенно с точки зрения Ближнего Востока – региона,находящегося в центре этих преобразований?
- Уже довольно давно целые институты капиталистической современности обсуждают, что нынешняя форма мироустройства утратила любую устойчивость – экономическую, геополитическую, с точки зрения моральных ценностей и норм, которые она породила. Конец однополярного мира обсуждается уже несколько десятилетий. Между тем, во время неолиберальной фазы капитализма система всё больше опиралась на финансовый капитал, как основную форму накопления ресурсов. Однако, этот способ аккумуляции капитала начал деградировать после кризиса 2008 года, указывая на необходимость нового экономико-политического уравнения. После распада Советского Союза западная гегемония навязывала и насаждала так называемые «либеральные нормы» по всему миру. Однако, приход к власти популистских лидеров, политические кризисы и экономический тупик, классовые конфликты, приведшие к политическому сдвигу значительных слоев общества вправо, – все эти события показали, что такие нормы больше не позволяют разрешать конфликты и обеспечивать взаимную легитимность. Вы помните, как эксперты Международного валютного фонда (МВФ) объявили, что порядок, сложившийся после Второй мировой войны, рушится, а принцип «территориального суверенитета», краеугольный камень этого порядка, стремительно теряет свою актуальность.
Одним словом, капиталистическая современность переживает сложный многофакторный кризис – экономический, политический, культурный и этический, где каждая из проблем влияет на общий контекст сложившейся ситуации. Этот кризис подчеркивает необходимость трансформации существующей мировой системы. Мы наблюдаем следствие этих проблем – беспрецедентный уровень обнищания и неравенства в распределении богатства, разрушение экосистем и трансформацию государственных структур, когда страны тратят огромные средства на безопасность. Все эти негативные явления сказываются на жизни миллиардов людей. Даже основные институты капитализма сигнализируют о том, что нынешняя модель неустойчива и невольно готовит почву для будущего взрыва, идеального шторма – повсеместного восстания миллионов. Понимание уровня проблем вызвало глобальный поиск альтернатив. Например, в Давосе, символическом храме капитализма, начались дискуссии о «великой перезагрузке». Альянс НАТО пересматривает свои стратегические перспективы. А Соединенные Штаты (США), по-прежнему доминирующая мировая держава на планете, признали, что в 2018 году вели подготовку к войнам.
После распада Советского Союза «либеральный порядок» перерос в глубокий и всеобъемлющий кризис. Многие из нас помнят слова Карла Маркса о том, что «насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым». В своем стремлении установить новый порядок капитализм поставил насилие во главу угла.
Когда капитализм использует насилие для создания нового, Ближний Восток превращается в испытательный полигон. То, что происходит в регионе с 7 октября, отражает два фактора нашей реальности – крах старых порядков и разгорающуюся борьбу за формирование новых. Эта реальность имеет множество измерений.
- Что это за измерения?
- Во-первых, теперь мы можем сказать, что режим Асада, чьи основы восходят к временам холодной войны, фактически уничтожен. Это конец ориентированного на холодную войну образа Ближнего Востока. Во-вторых, марионеточные группировки, действовавшие в регионе, быстро ликвидируются, а некоторым негосударственным игрокам теперь предлагается возможность интеграции в систему при новом порядке, новом переходном правительстве. Другими словами, когда насилие порождает нечто новое, оно одновременно несет в себе серьезные риски и угрозы и открывает широкие возможности для всех вовлеченных сторон. Третий фактор заключается в том, что капиталистические игроки стремятся перестроить Ближний Восток – экономически, политически, геополитически, этически и культурно – используя регион в качестве полигона для испытания модели, которую надеются экспортировать по всему миру.
Оценивая нашу историю, мы ясно видим, что Ближний Восток всегда был регионом, где капитализм не мог укорениться до конца. Конфронтация, ставшая следствием этого факта, приводит к двум вариантам развития событий: либо наши народы продолжат носить костюм, сшитый для них силами капиталистической современности, – костюм, который никогда не сядет, – либо они выберут свой собственный путь и сами оборвут эти связи.
Именно на этом перепутье обретает свое полное значениепризыв г-на Оджалана к миру и демократии. Из содержания обращения курдского лидера становится ясно, что две всемирно-исторические фазы – реальный социализм и холодная война – заканчиваются. Абдулла Оджалан связывает возникновение и развитие РПК с этими глобальными историческими условиями. Тем самым он указал, что с исчезновением условий, породивших Рабочую партию Курдистана, начался новый этап. Этот призыв с удивительной ясностью отражает дух времени и глубину преобразований в регионе и мире. Курдский лидер признает, что всемирно-исторические условия изменились и эти изменения требуют смелого ответа. Учитывая обстоятельства, он предлагает новый путь и новые возможности для Ближнего Востока, Турции и курдского народа. Возвращаясь к предыдущему вопросу, хочу сказать, что сегодня все на Ближнем Востоке судят о будущем, рассматривая некий воображаемый вариант. Г-н Оджалан, однако, предлагает демократическое будущее для региона. Среди множества вариантов, таких как затягивание ситуации и сохранение напряженности во имя безопасности Израиля, навязывание нового порядка эксплуатации и стабилизации в интересах Израиля же или возрождение неоосманистских мечтаний о власти над регионом, предложение курдского лидера выглядит радикально иной, преобразующей альтернативой. Он демонстрирует смелость, предлагая радикальное решение – разрушение всего, что имеет отношение к старому порядку. Оджалан аргументированно доказывает, что если демократическое общество будет построено на основе консенсуса в Турции и на всем Ближнем Востоке, народы региона действительно смогут разорвать связь с прошлым и определить свою судьбу.
В конечном счете, призыв 27 февраля – это не просто реакция на хаос и нестабильность текущего момента. Это результат труда мыслителя, который просчитал глобальную траекторию и её последствия для региона. Это предложение не просто отреагировать на кризис, а начать строить будущее здесь и сейчас. Поэтому инициативу курдского лидера вполне уместно назвать «призывом века».
- После призыва г-на Оджалана РПК объявила о своем решении распустить вооруженные подразделения. Во многих комментариях подчеркивается, что фронты третьей мировой войны ширятся. Отражает ли эторешение новые глобальные условия в условиях, когда военные действия продолжаются, а многие демократические права, завоеванные после Второй мировой войны, начали сходить «на нет»?
- Если мы будем думать о том, начнется ли Третья мировая война, опираясь на ассоциации, связанные с первыми двумя мировыми войнами, мы, скорее всего, ошибемся. Интерпретация сегодняшнего мирового конфликта через прошлое – неправильный подход. Я говорю это потому, что каждая мировая война имела конкретные экономические, политические, социальные и культурные причины.
Сегодня мы переживаем спад, затронувший экономико-политические, геополитические, этические и моральные структуры, которые породили первые две мировые войны. Смещение оси власти, многочисленные противоречия между конкурирующими глобальными силами, отказ от общих ценностей, которые когда-то объединяли общества на планете, распространение насилия почти по всем регионам мира, попытки ставить препоны накоплению капитала, резкий рост бедности и прекаризации. Все это – наша сегодняшняя реальность. Если рассматривать мировые войны не через образы, а учитывая материальные условия и причинно-следственную логику, то мы ясно видим, что уже живем в условиях Третьей мировой войны.
- В чем заключаются аспекты этого явления?
- Эта война – не та, которую можно выиграть исключительно насилием или инструментами подавления. Насилие – лишь один из элементов Третьей мировой войны и порядка, который, как можно ждать, последует за ней. Оно не является обязательным элементом, это вовсе не необратимое будущее.
Интерпретировать решение о роспуске РПК только через призму насилия было бы серьезным упущением. Да, эта война имеет аспект вооруженной борьбы. Но борьба за форму послевоенного порядка заслуживает глубокого анализа. Заявление участников съезда освободительного движения содержит очень точное замечание на этот счет: это вовсе не конец, это новое начало.
Всесторонняя оценка текущих условий позволяет предположить, что делегаты съезда пришли к этомурешению с намерением принять участие в формировании новых тенденции мирового порядка и возглавить революционную, демократическую и социалистическую борьбу в рамках этого порядка. То, что мы наблюдаем, представляет собой реакцию на нынешнюю конъюнктуру. В то же время это шаг вперед, открывающий новые перспективы.
- Турция уже видела попытки урегулирования. Однако,условия и контекст переговоров изменились. Как мы уже обсуждали, сегодняшние реалии дают нам иные рамки. Так какова же нынешняя картина, по крайней мере в ближайшей перспективе, для курдов в этой новой реальности, которая, возможно, выходит за пределы самой Турции?
- Предыдущие попытки урегулирования не следует рассматривать, как отдельные эпизоды, которые «имели место и закончились». Их следует расценивать, как часть долгосрочной политической борьбы, наследие которой сохраняется и сегодня. Различия в контексте просто отражают меняющиеся глобальные, региональные и национальные условия. Сегодняшний глобальный поиск нового порядка порождает новое видение того, как должен измениться Ближний Восток. Поэтому Абдулла Оджалан подходит к проблеме на нескольких уровнях. На первом уровне основное внимание уделяется защите курдского народа и обеспечению его прав. На втором – демократизации Турции. Третий требует создания альтернативного демократического образа жизни на Ближнем Востоке, а четвертый предполагает формирование демократической социалистической альтернативы, имеющей глобальный резонанс. С точки зрения курдов, наиболее вероятное развитие событий в ближайшем будущем – это окончание влияния внешних сил на Ближнем Востоке, определявшего наши судьбы в течение столетия. Настало время для укрепления и продвижения курдских завоеваний, политических, культурных и социальных. Пора позиционировать себя в качестве ориентира для демократического партнерства в регионе (а в перспективе и во всем мире) посредством альтернативного управления, экономических моделей, гендерного освобождения и подхода, требующего сохранения экологического разнообразия.
- Возвращаясь к Турции, мы видим, что, в отличие от предыдущих попыток урегулирования, на сегодняшний день в стране нет значительного противодействия со стороны основной оппозиции или других группобщества. Однако, одним из наиболее актуальных и деликатных пунктов дебатов стал Лозаннский договор, который был использован определенными политическими кругами. Как вы интерпретируете ходнынешних дебатов?
- Прежде всего, нормы, этические кодексы и моральные ценности так называемого «либерального порядка» утратили свою актуальность. Это затрудняет понимание происходящего на фоне общемировых событий. Некоторые описывают нынешнее урегулирование, как попытку примирения с последующим разрешением конфликта, в то время как другие называют его «нетипичным процессом». Разница интерпретаций обусловлена глобальной трансформацией.
При этом есть несколько ключевых аспектов, которые отличают сегодняшний диалог от прошлых попыток завершения конфликта. Во-первых, благодаря событиям в регионе и мире этот процесс получает большую международную поддержку, чем прежде. Это связано с тем, что многие участники событий привержены построению нового глобального порядка, а для этого необходимо включить курдов и Турцию в стратегию построения будущего. Во-вторых, государство изменило подход к решению проблемы на более консолидированный. Хотя как в мире, так и внутри самого государства всё ещё существуют противоборствующие силы, кажется, что количество деструктивных акторов уменьшилось. В-третьих, борьба за свободу курдов вышла на новый уровень. Официальный нарратив отрицания существования нашего народа уже разрушен. В какой-то момент доминирующий дискурс сменился на: «Да, курды существуют, но у них нет прав». Это сопротивление также было преодолено. Затем мы увидели, как была обозначена новая позиция: «Курды существуют, но им могут быть предоставлены только индивидуальные права, а не коллективные». На этом этапе наши оппоненты делали всё возможное, чтобы спровоцировать развитие правых тенденций среди курдов, но и этот рубеж был пройден. Сегодня мы находимся на этапе, когда коллективная идентичность и права курдов признаются и утверждаются.
Важно не упускать из виду всё наше прошлое и опыт, который мы получили, участвуя в современных дебатах. В этом ключе разговоры о Лозаннском соглашении можно интерпретировать, как попытку противников примирения оживить давние исторические страхи, чтобы сорвать диалог. Их основная стратегия заключается в том, чтобы представить любую критику Лозаннской системы, как нападение на республику или существующее государство, и использовать этот надуманный нарратив, стремясь подорвать процесс примирения. Но в действительности Лозаннский договор не отвергается, как исторический факт. Скорее, оспаривается его антидемократичность и враждебность к курдам, порожденная его последствиями. На самом деле цель состоит в том, чтобы принять его, как историческую истину, но изменить результаты давних решений и договоренностей путем демократизации республики и преобразования существующих государственных структур.
Давайте окончательно проясним: противники этого процесса прекрасно осознают, что происходит в стране и каким было наше общее прошлое. Их заботит вовсе не историческая точность; их цель – сохранить своекомфортное положение в рамках существующего порядка, поддержать турецкое превосходство и не менять колониальные отношения, чтобы они существовали и дальше в своем нынешнем виде. Поэтому, хотя на первый взгляд может показаться, что дебаты ведутся вокруг Лозанны, на самом деле речь идет о сопротивлении сохранению колониализма и борьбе за равенство и демократическую жизнь. Это борьба между сохранением авторитарного режима и реализацией демократического будущего Турецкой Республики. Это противостояние между мечтами о повторной колонизации курдов и деколонизацией как курдов, так и турок.